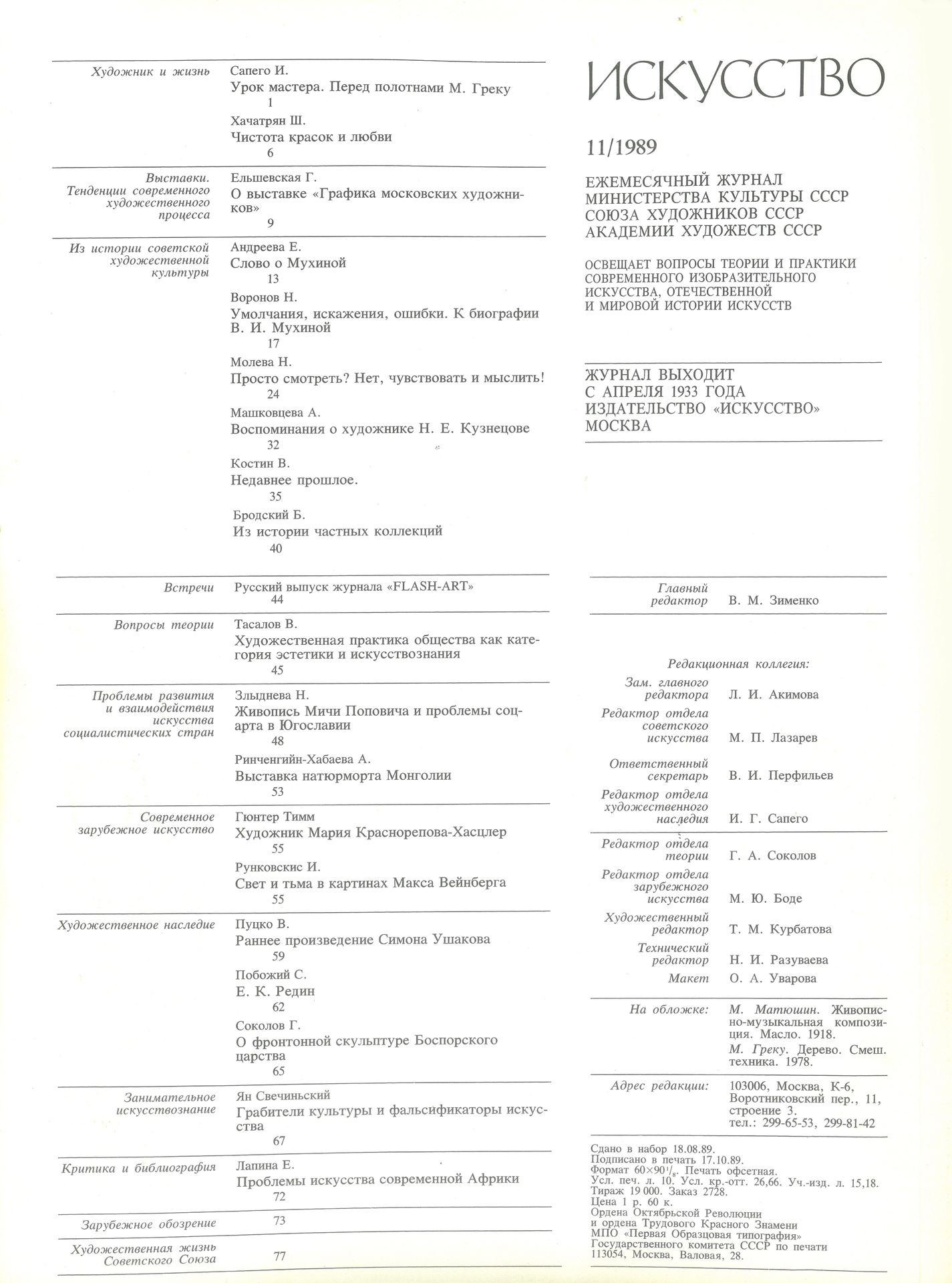Искусство 1/1990. В.М. Зименко, Л.И. Акимова, М.П. Лазарев. 1990
Заметки по поводу московской геометрической абстракции.
Фрагмент исследования
А. Шумов
...Последние тридцать лет тема геометрии в искусстве не была ведущей ни в «подпольной», ни тем более в официальной культуре. И все же отечественный геометризм существовал, претерпевая разные
этапы развития, углубляясь в автономные, неприметные для постороннего взгляда формы, подспудно совершенствуясь, вспыхивая в новых именах. Каким сюрпризом для заинтересованного исследователя выглядит потемневшая от времени нефигуративная живопись на стенах продуктового магазина где-нибудь в Тайшете или площадка под маятником Фуко в музее, расписанная рукой гения. Трудно себе представить развитие геометрического искусства как однородный процесс — линия движения прерывиста и не всегда идет по восходящей. Тут много самых разных причин, и главная среди них-то обстоятельство, что долгое время мы были изолированы от собственного наследия. Связь поколений, усвоение традиций не осуществлялись, хотя и были живы непосредственные ученики корифеев модернизма. Так определялось скачкообразное развитие, кружение на одном месте, когда одновременно рядом шло несколько дублирующих друг друга, не сведенных воедино близких эстетик и философий. Попытки осознать себя продолжателями концепций супрематизма тормозились комплексами провинционализма, чувством неполноценности. Кроме того, уже не было той мессианской осмысленности своего предназначения, отсутствовал свойственный произведениям начала века вселенский накал. Попытки преображения, переустройства мира сменились камерными интонациями, переживаниями, зашифрованными в высокоинтеллектуальную формулу. С другой стороны, в возрожденном абстрактном геометризме возникали произведения, которые можно назвать и холодными, и пустыми, и агрессивно-антикультурными.
Среди художников, пришедших в 50-е годы, первыми к геометрическим структу-
рам обратились члены группы кинетистов, возглавляемой Л. Нусбергом. Работы эстетизированного плана создавал О. Прокофьев. Позднее М. Чернышов и его последователь Б. Бич использовали дизайнерские, чисто формальные ходы умозрительных построений. Однако наша задача состоит не в том, чтобы выяснять, кто тогда начал первым, а кто сумел реализоваться, прийти к конкретным, осязаемым результатам.
«Сигналы» Юрия Злотникова с их чувственной эмоциональной окраской представляют собой кривые линии, горизонтальные и вертикальные цветные полоски, точки и полуточки — по выражению автора, они несут озноб полумысли, полудикости, полуритуала, оголенный музыкальный теми. Злотников по духу своему — не априорно установочный мастер, а экспериментатор, исследователь с приматом гипотезы и интуиции. Важные вещи у него рождаются спонтанно, в самом процессе творчества. Законченность картины для него не существенна. Работы рассчитаны не на путешествия вглубь плоскости, а на мгновенность восприятия. В конце 50-х — начале 60-х годов Злотникова интересовали истоки динамических ощущений, парадоксы и откровения; он конструировал хаос в надежде на гармонию. В «Сигналах» заметно американское влияние. Своими путеводными звездами художник называет Поллока и Мондриана (Малевич, как и для многих его сверстников, приобрел значение гораздо позднее).
Картина Злотникова представляет собой поле, на котором происходят различные операции. Поскольку у белого очень неопределенная характеристика, поле в его работах лишено конкретики.
У Злотникова был свой круг общения. Среди его соратников можно назвать В. Слепяна, А. и В. Губаревых, Б. Турецкого. Борис Турецкий познакомился со Злотниковым в 1951—1952 годах. Они встречались почти ежедневно, устраивали домашние выставки, развешивая свои работы и работы друзей в доме на улице Горького, где в настоящее время находится ресторан «Баку».
В его графических листах запечатлено удивление от проведенной линии, выстроенного ромба, неправильной фигуры, залитой тушью. В задачу художника входит анализ пространства, материи; творчество носит характер структурного исследования. Черные заливки — это и есть материя. Исходный материал — бумага, краски для него не имеют никакого значения. В произведениях всегда есть масса. Его пластику геометрической называть можно лишь условно; скорее, она близка минимализму.
Более правоверными геометристами представляются Потешкин и Андреенков. Александр Потешкин считает, что большой его заслуги в геометрии нет. Просто он стал интересоваться тем, что происходило в художественном мире, и увлекся произведениями Ротко, Сойера, Файнингера. Каждая новая «привозная» выставка давала пищу для размышлений: бельгийская — 1956-го, американская — 1959-го, английская с Беном Николсом — 1960-го, французы — в 1961-м. В поисках способа выражения движения, свободы художник создавал акварели, работал маслом, стремясь при этом к цельности, «бесфоновости» (поскольку считал, что все должно быть формой). Над ним смеялись, не принимали подобного творчества, называли «Пустышкиным».
Работы Владимира Андреенкова довольно замкнуты, в них есть простота и ясность. Образы с высвобожденными структурами языка, быть может, чрезмерно дидактичны, в них нет умиротворения и гармонии. Им свойственна заостренность черт, прямолинейность; они представляют собой скорее не структуру, а конструкцию. Андреенков испытал значительное влияние западного искусства, и прежде всего Альберса, Лоозе.
Его эксперименты конца 50-х — начала 60-х, как правило, остались в графике — в циклах, где прослеживается изменение образа в зависимости от передвижения цвета. Увидел разницу плотности листа — при проведении линии сразу появляется пространство, затем вторая линия. Опыты увлекли, несколько лет Андреенков экспериментировал в цвете. Художник полагает, что цвет должен раскрывать внутреннюю сущность, должен быть первородным, доставлять наслаждение.
Эдуард Штейнберг к геометрии относился более чем иронически. Его всегда привлекала рафинированная тональная живопись, он очень любил рисовать спокойные и меланхоличные тарусские пейзажи. В 1970 году неожиданно для себя самого Штейнберг создает нечто совершенно абстрактное — картину «А— Я» с символами альфы и омеги в христианском понимании.
Обращение к геометрии происходит закономерно, поскольку художник стремится к восстановлению традиции в пору тотальной несвободы искусства. Он начал расшифровывать этот язык через русский авангард, через пластический символизм. Штейнберг увлекался Кандинским; в процессе работы и в ходе собственных размышлений понял пространство Малевича. По отзыву самого
художника, к Малевичу он повернулся для того, чтобы вырваться из болота «космополитизма». От реалистических работ остается схема с наличием верха и низа, правой и левой сторон. Как и прежде, его волнует проблема горизонта, вертикали, связи между небом и землей. В 70-е Штейнберг разрабатывает проблему монохроматической живописи. Создается серия произведений, решенных в светлых кремовых тонах, построенных на балансировке-игре тонких элементов, распадающихся структур, где нет форсированности, но есть устремленность движения. В становлении мировоззрения художника большое влияние имел Е. Шифферс. В круг общения входил геометрист В. Воробьев, ученики: А. Данилов, частично — В. Пивоваров...

ПН Выходной